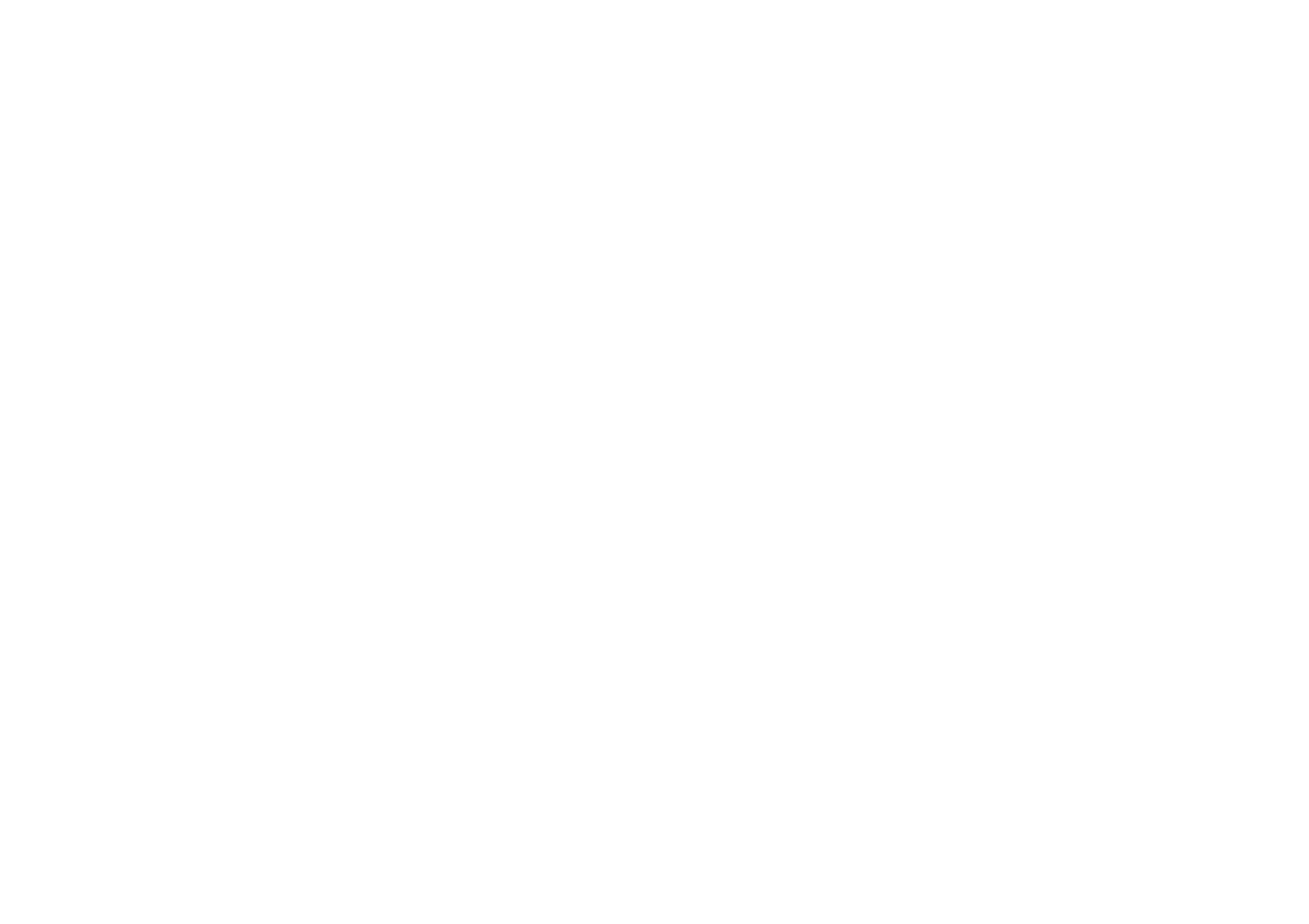-ов (а) -ев (а) -ин (а)
Фото: кадр из фильма «Мунаджаты Махиры», 2024
«-ов(a) -eв(a) -ин(a)» — это серия интервью с художниками, чья практика курсирует вокруг языка, затрагивает пересечения между идентичностями и взаимодействует с устной традицией национальных языков. В первых шести интервью, взятых для проекта, пристальное внимание будет уделено татарскому и башкирскому языках. Своим названием проект ссылается на унифицирующие окончания, которые на протяжении XX века добавляли представители различных национальностей к своим фамилиям. Интенция, стоящая за сбором этих интервью, максимально проста — художники, сознательно работающие с языком, способны рассказать в деталях о том, как язык оживает или умирает, забывается или пополняется. При этом позиция художника, который занимается исследованием языка, в этом смысле отлична от позиций других языковых исследователей — филологов, этнографов и так далее, поскольку во многом определяется жизненным опытом самого художника/художницы. «-ов(a) -eв(a) -ин(a)» — это нежное послание родным языкам, призванное обратить внимание на их текущие состояние; это сигнал тревоги, посылаемый в будущее; это ниточки, протянутые через поколения и территории. В интервью на вопросы куратора-юлдаш ZAMAN MUSEUM Марии Сарычевой отвечает мультидисциплинарная художница Y.M.
Фото: кадр из фильма «Мунаджаты Махиры», 2024
— В какой момент в твоей художественной практике возникает пристальное внимание к языку?
— Язык предшествовал художественной практике, которая возникла позднее, во многом из моего отношения к языку, а точнее, к языкам. Я всегда воспринимала язык семиотически, визуальный язык для меня — такая же знаковая система, как речь, киноязык, жестовый язык и так далее; они не состоят между собой в иерархических отношениях. С самого детства я была приставлена к двум языкам, татарскому и русскому, и космополитическая идентичность переводчицы для меня важна, как в художественной, так и в языковой практике. При этом эта идентичность не является ни дополнительной, ни нейтральной, у нее активная позиция. Альфрид Бустанов — татарский философ, в своем подходе совмещающий пристальное чтение татарских рукописей, заботу о контекстах, в которых они циркулируют и критику университетского знания, затрагивает очень широкий пласт вопросов, связанный с татарской культурой, и часто говорит о роли полилингвальности в ее развитии. В одной из моих работ, аффективном словаре татарского языка, который состоит из ста фраз на татарском, есть пословица «татарга тылмач кирәкми» — «татарам не нужен переводчик», поскольку в определенный исторический период татары очень хорошо понимали крымскотатарский, узбекский, уйгурский, казахский, башкирский, чувашский, чагатайский. Недавно я узнала о том, что репрессированные татары легко выучивали саха и говорили на нем без акцента, — интересные репрессированные географические встречи. Возвращаясь к Альфриду Бустанову, чья деятельность меня вдохновляет и дисциплинирует. Он много работает с неакадемическими источниками, например, с коллекцией Зайнаб Максудовой, деревенской татарской учительницы, ученой без институции и финансирования, которая по крупицам собрала невероятную библиотеку по генеалогии исламского знания на Волго-Уральской земле. После своей смерти советская ханум, в совершенстве говорившая на старотатарском, арабском, персидском, русском оставила уникальное наследие. Билингвальность для носителя татарского языка совершенно естественна, она всегда было частью языкового контекста.
Мы рождаемся в языке. Эта «символическая купель», как называет ее французский психоаналитик Жак Лакан, которую мы не выбирали, но в которую мы оказались вписаны. И мы, как котята, пытаемся выплыть из нее, чтобы выстроить свои собственные отношения с языком. Оттуда рождаются разные слепки языков. Поскольку я междисциплинарная художница, у меня нет внутреннего обязательства относительно того, что все, что я делаю, обязательно должно иметь визуальный образ, хотя я и работаю с движущимся образом. Очень многие мои видеопроекты рождаются через звук. В этом смысле, это немного рецептивный билингвизм, когда ты понимаешь все, что тебе говорят, но в горле стоит кость, и ты не можешь выдавить ничего в ответ. Эти отношения с языком я переношу через все языковые контексты, частью которых я являюсь, и пытаюсь с этим работать. Например, в моем последнем фильме звучат английский, норвежский, русский и татарский языки.
Фото: Презентация книг цикла «Языки безумия», 2025
— Что для тебя татарский язык?
— Татарский язык — это голос родных, это место встречи с теми, кого уже нет в живых, это родник, который чылтыр-чылтыр (с тат. «журчит»), который поддерживает меня в самые хрупкие моменты в жизни. Детский психоаналитик Франсуаза Дольто, которая, помимо всего прочего, много работала с детьми после второй мировой войны, использует понятие как langue-dite-maternelle, на английском language-to-be-maternal, то есть язык, который должен был стать материнским или язык якобы материнский, даже не знаю, как лучше перевести. То есть это не просто материнский язык, здесь есть измерение потери, полной или частичной. Может быть, субъект родился в билингвальной среде, а может, совершил переход из одной языковой среды в другую в раннем детстве — то есть это язык, которым мы не вполне владеем в прагматическом смысле, но при этом именно этот язык в архаических формах является фундаментом нашего бессознательного и всех образов, которые из него позднее выходят. Это язык, который существует вне прагматики коммуникации и для меня это на триста тысяч процентов татарский язык. У каждого языка есть эстетика, даже скорее, эстезис, поскольку эстезис предполагает, что мы говорим только о некоем варианте, не претендуя на универсальность. Для меня татарский язык — это язык, который меня сформировал, но который проявляет себя в самых разных формах, очень ситуативно, не всегда в практическом смысле.
Инсталляция «Обращение ко всем западным странам», центр современного искусства Влеесхал, 2025
— А какие у тебя взаимоотношения с русским языком?
— Мне кажется, важно обозначить, что отдельно русского языка у меня не существует. Мой отец — русский со смешанными корнями, мама — татарка, но так как семьи своего отца я никогда не знала, я была воспитана исключительно материнской стороной, в мусульманской вере и татарской культуре, я идентифицирую себя в первую очередь как татарку.
Мой русский неразрывно связан с татарским, я называю его казанским русским. До 4 лет мы жили вместе с дәү әни и дәү әти, и первые воспоминания, связанные с языком, связаны с татарским… Мне было 2−3 года, и у меня была перчатка с разноцветными пальцами. Кызыл (с тат. «красный»), сары (с тат. «желтый»), яшел (с тат. «зеленый»), и потом — фиолетовый. Я не знала этого цвета и сказала «чөгендер» (с тат. «свекла»). В принципе, у меня очень много воспоминаний, связанных с татарским языком в раннем детском возрасте, до 7 лет, хотя я говорила и на русском тоже, но в сознании он появился с вхождением в институциональную жизнь: садик и школа. Поэтому русский для меня это не семейный язык, это, во-вторых, язык общественный, а, во-первых, мой собственный: я научилась читать очень рано, в три с половиной года, и между семью и пятнадцати годами моим главным занятием было чтение и письмо. Я читала как минимум три часа в день, бывали дни, когда я по семь часов читала. Читала я просто все, абсолютно все, 30 книг в месяц примерно. Из-за скорости, количества, разнообразия прочитанного для меня русский язык — это не устный язык, это язык письма. Хотя я начинала писать на татарском, и отчетливо помню свой первый рассказ, который написала в 6 лет, о пропитании зайцев зимой, но не сложилось, наверно, потому что чтения на татарском тоже не сложилось. В моей семье особо не читали книг, кроме Корана. Моя дәү әни — первая, кто закончил вечернюю школу, дәү әти закончил пять классов. Но это не помешало ему в 90-е выучить арабицу в мечети и позднее стать имамом. Мы учили арабский алфавит вместе с таблицей умножения. Сам язык существовал в бытовом, в устном виде, и он так и не вышел за пределы семьи. С моими подружками-татарками мы говорили исключительно на русском, а иногда даже высмеивали татарский акцент, и сейчас мне за это очень стыдно. Я училась в татарской группе, участвовала в олимпиадах на татарском. Но это был такой мертвый татарский. Поэтому я хорошо знаю грамматику, все понимаю, у меня хороший словарный запас, я могу читать и писать, но использовать в устной речи это мне очень сложно. Сейчас, когда я пишу поэтические тексты, сценарии, то татарский язык там существует в виде таких вкраплений, каких-то слов, выражений, которые вдруг возникают в сознании, то были там всегда, пережив смену всех языковых контекстов, через которые я прошла. Теперь эти вкрапления уже существуют внутри английского, а не русского текста. На данный момент, пройдя семь кругов деконструкции себя и своего отношения ко всем языкам, которые являются частью меня, мне кажется, я нахожусь в стадии принятия своей лингвистической судьбы и с удовольствием смешиваю языки, акценты, ошибки и звукоподражания.
Фото: Инсталляция «Мунаджаты Махиры», Таллиннский выставочный зал, 2024
— Изменились ли у тебя отношения с языком после того, как ты стала матерью?
— После рождения сына начался процесс историзации языка, моих отношений с татарским, моим собственным детством и другими значимыми периодами в жизни. Татарский язык замолк, когда я переехала в Питер в 18 лет. Но у меня была подруга, башкирская татарка, и мы совместно пытались поддерживать какое-то культурное пространство. Готовили вместе очпочмаки, слушали татарскую и башкирскую музыку, пару раз я ездила на Сабантуи в Ленобласть. Но все это происходило за скобками моей художественной практики, потому что те несколько работ, в которых я обращалась к татарскому и мусульманскому контексту, когда я жила в Питере, были проигнорированы художественным сообществом, а когда ты юна и неуверенна в себе, отклик другого задает траекторию развития. Для меня это было очень хрупким делом, так как я серьезно занялась исследованием своей татарской идентичности в 2017 году, когда умер мой даватика, которой являлся для меня отцовской фигурой. Каждая новая работа, которую я делаю и в которую я вплетаю историю нашей семьи, одновременно делает меня ближе к нему, но и также, я надеюсь, будет ниточкой входа в татарскую культуру для моего сына, Кая Аяза.
Мой сын растет между в норвежско-датской среде, а с моим мужем мы говорим между собой на английском. Единственный носитель как русского, так и татарского в нашей семье — это я. Я понимаю, что, скорее всего, мой сын не будет говорить на татарском, поэтому единственное, что я могу сейчас сделать — это сделать родным акустический образ этого языка. Поэтому мы много с ним слушаем песен на татарском языке, в свои два года он уже может петь «Әлдермешкә» Хании Фархи, «Уфтанма» Салавата Фатхутдинова и «Минем Доньяда» Зули Камаловой — а стращаю я его Шурале. Родственники присылают мне много детских книжек на татарском, у нас уже есть небольшая коллекция. Кстати, у нас есть книжки Рабита Батуллы, папы Нурбека Батуллы, одного из участников этой серии интервью. Например, «Койрыксыз бака» (с тат. «Лягушка без хвоста») — это книжка с сюжетом про то, как КАМАЗ отрезал хвост лягушке, потому что она перешла дорогу на оранжевый свет светофора. Все стояли и ждали, а она шла и веселилась, и тут проезжает КАМАЗ и переезжает ей хвост. Жесткая книжка, но Кай Аязу нравится. Другая сказка Батуллы тоже довольно эдипальна: про лисенка с большими ушами, которого ни лисы, ни собаки не принимали за своего. Лисы дразнили его за собачьи повадки. Собаки дразнили его за большие уши. В итоге его убили охотники и сделали из него воротник. Эту сказку я пока решила Кай Аязу не читать. Все, что я могу сейчас сделать — это передать ему родной звук как воздушный поцелуй — и молитву. Один из первых текстов, обращенных к нему, до того, как он родился, звучит так:
Мой сын растет между в норвежско-датской среде, а с моим мужем мы говорим между собой на английском. Единственный носитель как русского, так и татарского в нашей семье — это я. Я понимаю, что, скорее всего, мой сын не будет говорить на татарском, поэтому единственное, что я могу сейчас сделать — это сделать родным акустический образ этого языка. Поэтому мы много с ним слушаем песен на татарском языке, в свои два года он уже может петь «Әлдермешкә» Хании Фархи, «Уфтанма» Салавата Фатхутдинова и «Минем Доньяда» Зули Камаловой — а стращаю я его Шурале. Родственники присылают мне много детских книжек на татарском, у нас уже есть небольшая коллекция. Кстати, у нас есть книжки Рабита Батуллы, папы Нурбека Батуллы, одного из участников этой серии интервью. Например, «Койрыксыз бака» (с тат. «Лягушка без хвоста») — это книжка с сюжетом про то, как КАМАЗ отрезал хвост лягушке, потому что она перешла дорогу на оранжевый свет светофора. Все стояли и ждали, а она шла и веселилась, и тут проезжает КАМАЗ и переезжает ей хвост. Жесткая книжка, но Кай Аязу нравится. Другая сказка Батуллы тоже довольно эдипальна: про лисенка с большими ушами, которого ни лисы, ни собаки не принимали за своего. Лисы дразнили его за собачьи повадки. Собаки дразнили его за большие уши. В итоге его убили охотники и сделали из него воротник. Эту сказку я пока решила Кай Аязу не читать. Все, что я могу сейчас сделать — это передать ему родной звук как воздушный поцелуй — и молитву. Один из первых текстов, обращенных к нему, до того, как он родился, звучит так:

Лекция-перформанс «Языки безумия», 2025
я была кызым
ты будешь улым
это самые важные семейные реликвии, которые у нас есть
ты будешь улым
это самые важные семейные реликвии, которые у нас есть
— Я хочу вернуться к одному моменту, о котором ты говорила в начале. Можешь пожалуйста чуть подробнее рассказать про идентичность переводчицы?
— Перевод — это то понятие, которое существует для меня на разных уровнях, это важная художественная задача. Это не только перевод с одного языка на другой, но и разные логики внутри языка. А более всего — это способ передачи памяти и знания. Как мы можем переводить с одной логики на другую? Например, с одного диалекта, более простонародного языка на литературный? Моя задача здесь как художницы-переводчицы — это соединить разные языковые контексты, чтобы они встретились между собой. Язык — это неоднородное пространство, в котором существует татарское радио;; сплетни моей дәү әни и ее подруг на кухне, пока они готовят; школьный татарский; суры Корана на кириллице. Это не только татарский, но и другие языки, которые оставили след во мне. Для меня выбор медиума обусловлен не моим интересом или моим профессионализмом, а тем, в какой форме репрезентация уместна в зависимости от того, с чем я работаю, а также горизонтом трансформации. Иногда достаточно текста, и ты приглашаешь людей участвовать в проекте их голосами, а иногда необходим звук или образ или архивный материал — самые разные языки. В контексте моей практики, режиссерско-монтажерской-переводческой идентичности происходит постоянный переход с одного уровня на другой. Внутри логики монтажа мне очень важно сохранить множественность, например, иногда я монтирую картинку с картинкой, а иногда — с картинки на звук, а иногда — через звук выстраиваю связь с пространством. Для меня важно все эти связи сделать более очевидными через свою работу, потому что это все про разные уровни реальности. Мой интерес лежит не в романтическом, а в материалистическо-духовном поле, владение языком — это иллюзия, я всегда рассыпана в языке. То, что мы знаем — это отпечаток нашей истории и всех контекстов, которым мы принадлежим. С тем, что есть, с тем и работаем. Мне этого достаточно. При этом я знаю, что эти иерархии и треволнения по поводу идеи аутентичности намного отчетливее выступают у людей из диаспоры, поэтому, думаю, для моего сына все будет совсем иначе.
Фото: Обложка «Борьба начинается с языкового усилия: аффективный словарь татарского языка», 2022
— А можешь ли ты немного рассказать про «Аффективный словарь татарского языка»? Как звучит татарский язык за пределами Татарстана?
— «Борьба начинается с языкового усилия: аффективный словарь татарского языка» — это коллаборация между Йоэном, моим партнером, мной и моими дәү әни, которая была представлена в рамках выставки documenta 15 в Касселе, Германия, в 2022 году. На протяжении 100 дней выставки, каждый день Йоэн учил новую фразу вместе с моей дәү әни и ее сестрой по телефону. Эти уроки были записаны и размещены в динамиках в зале ожидания на вокзале, привлекая внимания прохожих, которые слышали в татарском эхо своих собственных родных языков. Главным результатом работы мы считаем производство датского акцента татарского — датский похож на мишарское произношение, мягкие звуки получаются как родные, а вот с твердыми нужно потрудиться. Одновременно с аудио-инсталляцией мы выпустили словарь. Мы назвали его «аффективным словарем» поскольку в первую очередь, этот проект связан с отношениями и любовью как методологией. Этот словарь вырастает не из желания полного описания всех слов и фраз, он скорее подчеркивает язык как пространство за пределами коммуникации, язык как не что-то, что имеют люди, а как-то, что и есть люди. В составлении словаря мне также помогали Лилия Габдрафикова и Рашид Тухватуллин.
Для меня татарский язык — это язык абсолютной любви, любви безоценочной. Для меня важно, что мой любимый человек сам выразил желание о том, чтобы учить не русский, а татарский. Это очень личный проект, поскольку в нем участвовали самые дорогие для меня люди — Йоэн, моя дәү әни и ее сестра Фарида. Они участвуют во всех моих проектах. Фариду я вообще я называю әникой, когда-то в детстве повторив за ее детьми (с тат. «мама»). Вообще вопрос имени — это такой непростой вопрос. Когда я переехала в Норвегию, начался коронавирус, границы закрыли буквально на следующий день после моего приезда. Я оказалась на карантине в стране, в которой вообще никого не знала. У меня с собой была коллекция носовых платков, которая осталась от моего дәү әти. Когда происходит аш (прим. ритуальное застолье в исламской традиции), имаму и всем участникам раздают күчтәнәч (с тат. «гостинец») с собой — обычно это мыло, носовые платки, еда, какие-то небольшие деньги, но в топе — носовые платки, чай и мыло. После его смерти я забрала все носовые платки, которые ему дарили. Первое, что я сделала в Норвегии — это я стала вышивать имена, например Танзилә/ Таня, Сөембикә/ Соня, Фарида/ Фая и так далее. Это первая работа, которую я сделала в Норвегии. Я никогда ее не выставляла, она просто есть. Это все имена подруг моей дәү әни — это очень важные фигуры, великие женщины. И это переназывание, насколько оно сильно связано с силой характера, с методичным говорением «нет» изменению твоего имени. Это не только вопрос советского прошлого. Вообще для меня всегда было важно делать работы, которые никто не увидит, или увидит через пять, десять лет.
Фото: «Голос Сююмбике», кадр из инсталляции, 2022
— Как бы звучало это интервью, если бы оно было на татарском?
— Оно бы не звучало, я бы отвечала в письменном виде. В нем было бы больше труда, меньше импровизации. Последние пять лет я нахожусь на расстоянии как от русского, так и от татарского языков. Эта дистанцированность сильно повлияла на меня, в хорошем смысле, она сделала меня более смелой: в каком-то смысле лучше быть чужой полностью, чем наполовину. В интернациональном контексте, в котором я сейчас нахожусь, у меня много друзей из исламского мира — из Ирана, Пакистана, Ливана, Египта, Палестины. Моя диспозиция по отношению к татарскому языку и к исламу, который очень трудно отделить от идентичности, изменилась. На поверхность вышли другие формы солидарности и понимания себя как части традиции и моего вклада в нее. Постсоветское пространство — это одно пространство для обсуждения, а когда я нахожусь в международном мусульманском и коренном пространстве — это совершенно другое. Например, меня поражает, что мое видео «В Волго-уральском небе» было показано в Бразилии, в маленьком городе Санта Мария, в совершенно ином коренном и национальном контексте. Это будоражит мое воображение. Это мир, в который я верю — когда тайский режиссер снимает фильм в Колумбии, или когда татарский фильм показывают в Бразилии. Это то, в чем мне больше всего хочется находиться: в мире, в котором дороги протаптываются ради любви, дружбы и солидарности. Несмотря на то, что в устной татарской традиции звучат постоянные предостережения о потере своих корней, если находишься вдали от родины достаточно долго, для меня корни — это про отношения и духовный путь, который отражается в моем художественном пути. Как говорил Каюм Насыри, ягъни кара күңелгә хикмәт вә вәгазь әсәр итмәс, ташка кадак кагып булмайдыр.(с тат. — «Того, чья совесть черна, не пронять ни колдовством, ни добрым словом, как нельзя вбить гвоздь в камень»).