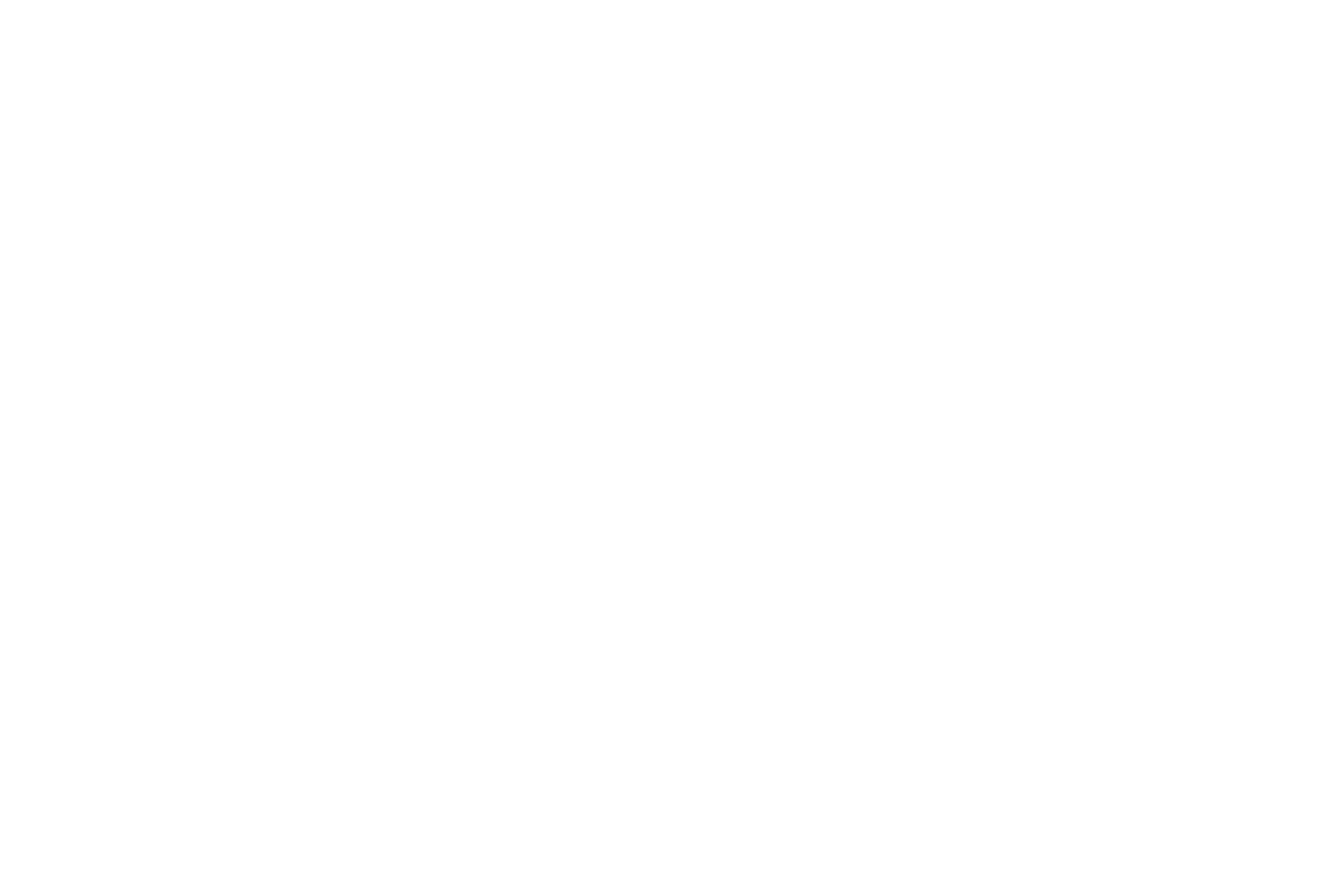У 8 марта много ассоциаций, и в числе первых — цветы. Цветы на выставке «Восьмое марта. 1954/2025» (21 февраля — 21 апреля, ZAMAN MUSEUM) тоже есть — как часть инсталляции Динары Рыскильдиной «Я огонь! я розам кричу распуститесь!». Эта цветочная композиция почти в центре выставочного пространства статична, и все же обладает малозаметной динамикой. Во-первых, сама геометрия фразы, которая незавершенной окружностью вписана в квадрат столешницы, раскручивает потенциальных читателей по направлению к другим экспонатам (и они «распускаются» под их взглядом). Во-вторых, самые внимательные посетители смогут заметить, что инсталляция в процессе работы выставки ведет довольно оживленную жизнь: меняются не только цветы, изменились и сами вазы. Кажется, в этой сменяемости форм и цветов, объединенных лишь угольными словами, — нить, протянутая от выставки 2025 года к выставке 1954-го.
Современные нам художницы каждая по-своему ведут диалог со своими предшественницами. Для Юлии Галиакберовой интерес представляет сам отрезок времени: ее оммаж фарфоровым работам «Башкирский танец» Тамары Нечаевой — попытка измерить этот отрезок. Дело в том, что такие фигурки до сих пор производятся на Октябрьском фарфоровом заводе — с некоторыми модификациями. Юлия Галиакберова умножает прошедшее время, прикладывая к нему будущее примерно той же длины: в качестве основы для работы она использует вариации на тему от искусственного интеллекта. Дополнения и лакуны, едва уловимые в «обновленных» фигурках, — что-то вроде сталагмита, предполагаемого на пока еще ровной поверхности.
Эхом работ В. Ф. Волковой «Куклы Странник (чудесный клад)», «Аника воин» становится саунд-инсталляция «Клад» Миляуши Абайдуллиной. Ненайденные куклы — предположительно героев спектакля для кукольного театра — художница по ткачеству рифмует с темой утраченного. Пустующий сундук оказывается переполнен историями о приданом — по большей части исчезнувшем. Вместе с тем единственное украшение грубоватого сундука — декоративная лента с вышивкой — приобретает значение не столько самоценного артефакта, сколько надежды на сохранение утраченного в иной форме — словах, вышивке, искусстве.
Произведение как портал использует и Лидия Кириллова в своем пейзажном триптихе, вдохновленном лишь названиями трех живописных работ Нины Анисифоровой. Непривычный вытянутый формат трехчастной композиции создает ощущение не столько тесноты, сколько взгляда через замочную скважину, — конгениальное решение, учитывая, что искомые пейзажи Анисифоровой найти так и не удалось. Можно ли выстроить всю картину лишь по нескольким фрагментам? Хороший вопрос, поставленный и всей выставкой в целом.
Для Алии Хансен искрами, приводящими в движение творческий двигатель, стали факты биографии Параскевы Размолодиной. Созданная на полотне вселенная — собственное понимание художницы образа Параскевы Павловны, переведенное на абстрактный язык. В этом начале, кстати, тоже есть Слово — звуковая часть работы, в которой рваный внутренний монолог Алии Хансен заполняет космическую пустоту фактов атмосферой.
«Сон»: нетипичный для экспозиции выставки 1954 года сюжет подчеркивает отчетливо иное время и пространство как строительный материал для драматургии и образов. Кажется, подобное остранение — оптика не только для Гульнары Самойловой, но и для самих зрителей, изучающих в 2025 году выставку 70-летней давности. Расположенная рядом фотография Анны Чечкиной (пересекается со скульптурной работой Веры Морозовой «Башкирский танец») тоже использует остранение, но позволяет увидеть запечатленный образ практически без контекста и поразмышлять о том, как он меняется на том или ином фоне.
Текст: Андрей Королев
Фото: Камил Кутушев